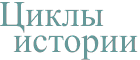|
К содержанию П.К.Гречко
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИСТОРИИ
7. История и утопия
Утопия... На первый взгляд, она никак не вписывается в наш метапаттерновый
подход к истории - нечто несбыточное, фантастическое, мечтательное, ненаучное. О каких паттернах (а за ними ведь всегда какая-то воспроизводимость, упорядоченность, необходимость) здесь вообще можно говорить? Не будем, однако,
торопиться, всмотримся повнимательнее. Может, сказанное об утопии - всего
лишь реакция на нее обыденного сознания.
Начнем с общепризнанного определения: утопия - это
описание или изображение идеального общества, альтернативного своим совершенством существующему (и
когда-либо существовавшему). Принципы и нормы человеческого общежития, организация труда и досуга, социально-политическое устройство и т.д. - все это в утопии лучше, гармоничнее, привлекательнее, нежели в том обществе, в котором живет ее автор. Утопическое
общество свободно от нужды и эксплуатации, насилия и войн, лжи и
обмана.
В противоположность утопии с ее гуманизмом, оптимизмом и социальным воодушевлением антиутопия намеренно пессимистична.
Ее жанровое предназначение - высмеивать, сатирически пародировать, ставить в неловкое положение саму идею совершенства, показывать тщетность и бесплодность всех человеческих усилий хотя бы
приблизиться к совершенству, испытать в полной мере чувство физической и духовной удовлетворенности жизнью.
Чтобы завершить рассмотрение дефинитивного аспекта проблемы, отметим, что в современной утопической литературе выделяют
также дистопию - изображение "идеально несовершенного" общественного устройства, отрицающего индивидуальность, свободу и гуманность человека, полиутопию - изображение идеального мира,
состоящего из разных, но одинаково жизнеспособных обществ или
общин, практопию - претендующий на практическую реализацию
проект-идеал широкого социального звучания.
Что же лежит в основе утопии, антиутопии, дистопии? Противопоставление "у" и "анти" ("дис") не должно вводить в заблуждение,
так как не выходит за пределы одного и того же типа сознания - утопического. Это просто разные проекции человеческого бытия: положительная, или оптимистическая, и отрицательная, или пессимистическая; Антиутопия - утопия со знаком минус, своеобразная реакция на блокирование утопии (скажем, посредством формирования в
общественном мнении ее резко отталкивающего образа). Из антиутопии по принципу от противного ("все должно быть наоборот") легко
"выводится" утопия, И в антиутопии есть свой положительный идеал, но только скрытый, не выраженный явно. Утопия и антиутопия
взаимодополнительны, причем нередко даже у одного автора, например у Руссо: он показывает утопию счастливой сельской жизни и антиутопию города как огромной пустыни.
Движущую силу неослабевающего интереса к утопии многие авторы справедливо связывают с загадкой всеобщего счастья, с неизбывным желанием ее разгадать. Как можно думать, в основе утопии
лежит извечная надежда человека на лучшее, хотя бы в виде просветов, проблесков, лучей. Утопия тем и хороша, что позволяет собрать
все лучи - надежды, счастья и т.д. - вместе, в одно большое, на
всех, светило, с тем чтобы оно, хотя бы в воображении, хотя бы только в мечтах, раздвинуло пределы человеческого бытия, границы истории. "Город Солнца" - это не только и не просто название знаменитой утопии Кампанеллы, это - общее, "солнечное" определение
любой утопии, утопии как таковой.
С учетом сказанного метапаттерн утопического сознания, утопии, может быть определен как светлое будущее. "Опять о светлом будущем - не надоело ли?" -
наверняка возмутится постперестроечный читатель.
И будет неправ: во-первых, потому, что светлое будущее - это не
обязательно коммунизм, особенно в его марксистско-ленинской интерпретации; во-вторых, потому что, по словам Б.Ф.Скиннера, "поражение не всегда равнозначно заблуждению" (может, время еще не
пришло или человеческая природа подвела, но ведь время вдет, времена меняются и природа человека тоже эволюционирует); в-третьих, потому что речь идет именно об утопии, которой, по определению, практический успех противопоказан или необязателен*. Вообще исторический смысл и прагматизм, практицизм часто не совпадают.
Нетрудно предвидеть и такое возражение: перспективу светлого
будущего разделяют далеко не все, пожалуй, только неисправимые оптимисты. Но в истории как вероятностно-статистической реальности такого,
чтобы "все" - единогласно, единодушно, никогда не бывает; в ее строю
многие шагают обязательно не в ногу со временем, с другими людьми. В истории "большие батальоны" не всегда правы, истина может быть
и на стороне меньшинства. К тому же не исключено, что пессимисты - лишь неудавшиеся оптимисты, те, кто не выдержал напряжения высокой
идеи (например, идеи совершенства, как в нашем случае).
Кроме того,
для пессимистической фантазии есть особый жанр - негативная утопия,
антиутопия. Но похоже, историю делают все же оптимисты. Если бы было
по-другому, Европа, к примеру, уже давно бы "закатилась" в полном соответствии с пессимистическим пророчеством Шпенглера.
Метапаттерн светлого будущего согласуется, хотя и неоднозначно, с семантикой самого термина "утопия . Как известно, она двойственна. С одной стороны, это "место, которого нет" (греческий корень ои - нет, topos - место) и, видимо, быть не может, а с другой - "совершенное, благословенное, блаженное место" (греческий корень еи - благо), т.е. нечто прямо противоположное первому, видимо, исходному значению или смыслу. Нигдейя** и Блаженная или Благословенная страна - сочетание в высшей степени притягательное, дерзкое, даже авантюрное, подходящее для человека как проектирующего, трансцендирующего и, главное, тоскующего по трансценденции существа. Хочется верить, что корень "благо" в семантическом поле утопии все-таки сильнее корня "нет". Сила блага
покоряюще велика, она превращает "нет" в "должно быть", что в
полноте человеческого бытия, его топоса вполне можно рассматривать как "есть".
* Конечно, практическое измерение утопии много сложнее, и мы этот вопрос рассмотрим далее.
** В этом плане интересно название утопического произведения С.Батлера "Эревуон" (написанное в обратном порядке слово nowhere - нигде).
Поэтому прав Оскар Уайльд, заметивший, что на карту Земли, на
которой не обозначена утопия, не стоит смотреть, так как эта карта
игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество.
Чтобы определить, какую конкретно траекторию вычерчивает это
стремление, какова фигура следа, который оно после себя оставляет,
какое развитие несет с собой непрекращающееся путешествие человечества в страну, которой нет, необходимо выявить и рассмотреть
основные моменты или функциональные элементы культурно-исторического статуса утопии.
Но прежде чем приступить к этому вопросу, хотелось бы остановиться на временной размерности метапаттерна светлого будущего. О его пространственных координатах, топосе уже было сказано:
это вымышленный остров, придуманная страна, Нигдейя.
Сама форма выражения "светлое будущее" ограничивает нас будущим временем. И это правильно, но только в том смысле, что утопия призвана хоть как-то влиять на грядущее общественное устройство, дальнейшее историческое развитие, на ориентацию, по меньшей мере смысловую, ценностную, социально-проективной
деятельности человека. Но сюжетно, фабульно, утопия может приглашать нас и в прошлое ("золотой век ), и в любое "боковое" ("островное") время. Неважно, о каком конкретно времени идет речь.
Утопия претендует на универсальные, абсолютные ценности, а потому ее время течет в вечность, в которой "когда" и "никогда" совпадают. Иными словами, в утопии "всегда" тождественно "никогда". Таким образом, кроме Нигдейи у страны Утопия появляется еще одно
имя - Никогдайя. Или Всегдайя - это как посмотреть.
Для нас важно различать время как изобразительный прием, признак литературного жанра ("говорящие картинки") и время как конститутивную, сущностную характеристику утопии. В первом случае
можно говорить об утопиях времени (ухрониях: счастливое "когда-то" или "когда-нибудь") в отличие от утопий места (всевозможные
"острова") и об утопиях вневременного порядка (счастливый мир вне
сферы земного существования человека [40, с.60 - 113]). Во втором
случае перед нами атемпоральный, ценностно самодостаточный, замкнутый мир. Однако вернемся к культурно-историческому статусу
утопии как социального феномена.
Основание утопии - в критике "современного"
общества, существующих общественных порядков, вообще статус-кво, критике острой, убийственно беспощадной, в которой нет полутонов, светотеней, даже намека на снисхождение к слабостям и ограниченностям человеческой природы, субъективного фактора истории. Существующее положение вещей утопическое сознание объявляет "неестественным", дурным, неизлечимо плохим, притом целиком и полностью, до корней, глубинных оснований. Ему противопоставляется
столь же однозначная, но со знаком плюс, картина идеально устроенной жизни, справедливейшего общества, картина всеобщего благоденствия, умиротворения, счастья. Краски подбираются максимально контрастные: на одной стороне - только темные, на другой - только светлые. Работает логика или - или: или добро, или зло; или
настоящее, или будущее; или сущее, или должное. Никаких середин;
мосты намеренно сжигаются, чтобы не было соблазна что-то смягчить, приглушить, разбавить, чтобы не снижалось напряжение в силовом контуре утопии, контуре привлекательности, дразнящей загадочности, искуса, чтобы не утекала энергия искрометного воображения в темные подвалы человеческого бытия, в вялую и безрадостную
современность.
Энергия утопического воображения индуцируется, вернее, самоиндуцируется прежде всего пафосом критики существующего положения вещей, извращенных общественных отношений. Этот источник практически неисчерпаем, ибо сущее (не его отдельные формы)
никогда не сможет сравняться с должным. Сущие общественные установления всегда будет за что критиковать - это можно утверждать
априори. Конечно, сущее не стоит на месте, оно развивается, продвигается вперед, захватывая что-то и из области должного. Но и должное не статично, оно уходит всякий раз за вновь открывшиеся горизонты истории. Желание совершенства не знает пределов. Человек - существо несовершенное, он приближается к совершенству, но так
им и не становится.
Другой, не менее (если не более) мощный источник утопического
воображения - метафизическая сфера, сфера абсолютов, таких, скажем, как Благо, Закон, Бог, Природа, Разум и т.д.
В данной связи Платон, основатель социальной утопии как самостоятельного философского жанра, пишет: "...нужно отвратиться
всей душой от всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего
ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо" [24, т.З, с.299]. В идее
блага древнегреческий мыслитель видел образец для упорядочения и
государства, и частных лиц [24, т.З, с.325].
В отличие от Платона мы не считаем мир идей (благо - одна из
них) особым, онтологически самостоятельным "царством бытия".
Это - последний, вершинный пласт человеческой культуры, которая
есть не что иное, как создание и передача образцов в виде форм и результатов многообразной деятельности человека, прежде всего норм,
ценностей, идеалов. Этот пласт потому и является вершинным, что
идеализация и абсолютизация при создании идеалов, идеальных образцов достигают в нем своего пика, последнего из мыслимых исторических горизонтов. Дальше, т.е. выше, уже некуда: иссякает абстрагирующая фантазия, у которой тоже есть свой потолок, своя предельная высота полета. Последующее развитие, дальнейшая жизнь
созданных таким образом идей-абсолютов определяется уже не подъемом, не набором высоты, а наоборот, снижением, приземлением: ростом числа сторонников или энтузиастов, усилением их (идей) повелительности или императивности в общественном сознании и т.п.
И трудно сказать, что здесь важнее: то ли подъем, то ли снижение.
Роль, аналогичную идее Блага в системе Платона, у стоиков играл
Закон. С их точки зрения, Закон правит миром, внося в него порядок
и гармонию. Высшая добродетель человека - покорность судьбе, т.е.
умение подчинить себя, свою жизнь диалектике всемирной закономерности, логике вечного и неизменного Закона. Отталкиваясь от Закона, стоики проводили различие между двумя видами права: естественным, по которому все люди являются гражданами мира, и позитивным, которое делает их одновременно представителями отдельных
государств, обществ, народов.
Практически неисчерпаемым источником утопического воображения была и остается идея Бога. Сама по себе это идея спасения - воздаяния человеку за испытанные несправедливость, горести и несчастья его земного бытия. В идее Бога утопия "спасается" от шаткости
и неустойчивости своих мироустроительных проектов, от жизненной
легковесности совершенства, лишенного своего естественного противовеса - ограниченностей, недостатков и изъянов практического бытия людей. Бог - это любовь, праведность, справедливость. Он сотворил всех людей равными по своему образу и подобию. Нет у него
ни рабов, ни господ, ни бедных, ни богатых, "ни Еллина, ни Иудея",
как сказано в Библии.
Заповеди Господни - ключ к всестороннему и гармоничному общению людей, к слаженному и освященному смыслом функционированию всего общественного организма. Следование им раздвигает
пределы существования человека, снимает его конечность, делая
причастным "царство земное" к "царству небесному". Ясно, что все
эти религиозные мысли (образы, прозрения, видения) как нельзя
лучше резонируют с основными установками утопического сознания,
с содержательными запросами метапаттерна светлого будущего: и
там, и здесь обещание "нового неба и новой земли".
В утопическом сознании также широко представлена метафизическая абсолютизация Природы. Не одно поколение утопистов вдохновлялось ею. В частности, Морелли настаивал, что природа предназначила Землю для общего владения, заставила "людей понять равенство их состояний и прав и необходимость общего труда". Она
"мудро соразмерила наши потребности с ростом наших сил", расположила "людей к единодушию и общему согласию", установила человеческие права и обязанности, создав тем самым основу для гармоничного функционирования всего общества. Если бы люди оставались послушны природе, их жизнь сложилась бы счастливо, а
общество было бы совершенным [23, с.9 - 26, 89].
Но, пожалуй, самый мощный заряд энергии утопическое воображение получает от идеи Разума. Чаще всего существующие порядки,
традиции и нормы человеческого общежития объявляются просто неразумными или зеркально противопоставляются царству разума, т.е. порядку, который разум высвечивает своими лучами в природе или
человеке, в естественности, а потому и легитимности его основных
прав и свобод. Несущие конструкции утопически-идеального общества оказываются выполненными из тех истин и принципов, которые
разум открывает в самом себе. И заметим, не обязательно в виде чего-то готового, заранее положенного, предданного. Это могут быть и
определенные результаты обобщения, выводы, дедукции других умственных операций.
Объединяющее и тем самым выравнивающее качество всех "разумных" истин и принципов, качество, по которому их идентифицируют, выдвигают и, главное, "принимают в утопию", - это самоочевидность, т.е. ясность и четкость усмотрения, изнутри идущая неотразимость и убедительность, по меньшей мере для автора (авторов)
утопии. Свет разума есть свет будущего, в проективных лучах которого вызревает само светлое будущее.
Итак, идеи, или образы-абсолюты, названные и вкратце описанные выше, питают энергией воображения утопическое сознание, утопии. Но откуда у них эта энергия, на чем они стоят, чем "питаются"
сами? Какова вообще их природа? На эти вопросы (в сущности единый вопрос), пока нет однозначного ответа, да его, видимо, никогда и
не будет. Но здесь уж ничего не поделать - философия вся такова.
В то же время искать ответ все-таки нужно.
С учетом сказанного попытаемся разобраться в этом вопросе и мы.
Определим исходную позицию: абсолюты, которыми вдохновляются
утописты, суть символы человеческой культуры, символы базовые,
основные; ими помечены основания, вершины и горизонты общественного бытия людей. Как известно, символ отличается бесконечной смысловой палитрой. Его семантическое поле не имеет четких
границ, жестких интенсивностей и концентраций. К тому же оно диспозиционно: его кет вне актуального взаимодействия символа с потребителем (потребителями). До встречи с потребителем семантическое поле символа существует лишь потенциально, в виде его внутренней предрасположенности или готовности.
Важно не упрощать смысловую диспозиционность символа. Она
не просто актуализируется, проявляется потребителем. Потребитель - отнюдь не ее спусковой крючок. Здесь ситуация гораздо более сложная. В действительности общаются не символы с потребителями, а
потребители, люди общаются между собой в связи с символами. Для
отдельного человека семантическое поле символа предстает чем-то
вроде обобщенного и культурно гипостазированного опыта других.
Но его личный опыт тоже значим.
Вообще зачастую трудно определить конкретный вклад потребителя и собственно символа в его вариационную смысловую бесконечность. Она - их общий результат, их совместная "работа", работа
взаимодействия, соотношения. Последнее, обстоятельство для нас
особенно интересно. Оно позволяет понять особенность утопического
отношения к Культурным символам общества. Как мы только что установили, данное отношение далеко не пассивно или нейтрально.
Оно заключает в себе не только прием, но и передачу, не только
адаптацию, но и преобразование, причем передача, преобразование
явно доминируют. Не объемно, конечно, но динамикой, тенденцией
как в плане семантической перспективы, смысловой вариабельности,
так и других столь же существенных измерений или атрибутов
символа.
Фокус утопического отношения к символу - фокус совершенства.
В нем пересекаются, через него воспринимают все другие характеристики символа. В результате символ округляется, завершается, становится более респектабельным и солидным, чем он был до его утопического преломления. Символ претерпевает определенную внутреннюю перестройку. Он освобождается от многих не очень привлекательных своих элементов, зависимостей, свойств. Например, благо
теряет свою связь со злом. Зло объявляют балластом, который тянет
вниз, в прошлое, а надо ведь лететь в будущее, к Солнцу, как Икар.
Природа уже не грозит людям стихийными бедствиями, не мучает их
жаром и холодом, не насылает инфекции; борьба за существование с
ее кровавыми жестокостями превращается вдруг в оздоровительную
терапевтическую процедуру, умиляющую своей естественностью и
непринужденностью.
Освобожденный от "балласта" символ резко взмывает вверх, становится еще более недосягаемым, а потому, наверное, и манящим.
На наш взгляд, этот момент подъема, возвышения, утопического совершенствования и есть процесс превращения символа в абсолют.
Несмотря на очевидное упрощение (облегчение) символа при трансформации его в абсолют, смысловая вариабельность последнего от
этого нисколько не страдает, она остается все такой же, а именно бесконечно мощной: от вычитания, как известно, бесконечность не становится менее бесконечной. Поэтому в плане абсолютов, абсолютного утопическое сознание никогда не выдохнется, ему всегда будет чем
вдохновляться.
Кроме критичности и связанной с ней ориентации на абсолюты
утопическое сознание, утопия несут с собой также трансцендентность. Развернутый анализ этой черты или функции утопического
дан в работе К.Г.Мангейма "Идеология и утопия", увидевшей свет в
1929г.
В качестве отправной точки своих рассуждений Мангейм использует тот факт, что "каждое реально существующее" жизненное устройство обволакивается представлениями, которые следует именовать "трансцендентными бытию", "нереальными", потому что при
данном общественном порядке их содержание реализовано быть не
может, а также потому, что при данном социальном порядке жить и
действовать в соответствии с ними невозможно" [34, с.115]. Следовательно, трансцендентностью немецкий социолог называет недостижимость. Трансцендентно то, что нереально, неосуществимо, и не
вообще, а применительно к исторически конкретному обществу, его
реальному, а не воображаемому укладу жизни.
Все трансцендентные представления или ориентации общества
Мангейм разделяет на идеологические и утопические. Различие между ними в основном функциональное. Идеологические трансцендентные представления (идеологии) служат сохранению или постоянному
репродуцированию существующего образа жизни [34, с.113]. Напротив, утопические трансцендентные представления (утопии) требуют
радикального преобразования, взрыва существующего общественного порядка. Идеологии прикрывают, маскируют действительность,
они охранительны и апологетичны. В отличие от них утопии разоблачают, обнажают, демаскируют, они всегда "чужды действительности", всегда противодействуют ей. Этим "своим противодействием, - полагает Мангейм, - им удается преобразовать существующую историческую действительность, приблизив ее к своим представлениям" [34, с. 116]. А вот идеологии "de facto никогда не достигает реализации своего содержания" [34, с. 115]. Да и не в этом их предназначение; они служат для отвлечения от реализации чего-то другого, не того, естественно, что прокламируется, официально провозглашается. При этом обманываться, заблуждаться могут и те, кто искренне
принимает идеологию как мотив своего поведения. Субъективная частность здесь бессильна. Она не устраняет разрыва между законами,
правилами жизни и принципами, декларируемыми идеологией. В самом процессе реализации содержание идеологии неизбежно искажается, хотя можно сказать и наоборот - исправляется, ибо искажение
относится к самой сущности идеологии.
Например, в средние века представление о христианской любви к
ближнему не могло не быть идеологически трансцендентным. Как известно, социальным строем, жизненным устройством той эпохи, было
крепостничество, а его жизненные принципы явно расходились с
христианской любовью к ближнему. Жить при таком социальном
строе можно было, только снизив притязания христианской любви к
ближнему, умерив, а то и отринув ее благородные мотивы. Те же, кто
не шел на подобную сделку, становились бунтовщиками. А это уже
не идеология, но утопия.
Как видно из этого примера (принадлежащего Мангейму), границы между идеологией и утопией достаточно подвижны. Социальные
слои, которые отождествляют себя с существующим жизненным устройством, чье мировоззрение не выходит за пределы установившегося общественного порядка, представляют и олицетворяют собой идеологию. Для них все представления, не реализуемые в рамках данного
реального бытия, являются утопическими. Оппозиционные слои общества, ориентированные на ростки нового общественного порядка,
можно считать носителями утопического сознания, коллективным
историческим автором утопий. Естественно, они сами себя утопистами не называют. Для них утописты как раз власть предержащие, которые не видят или не хотят замечать, как далеко ушла жизнь, и
вместо того, чтобы отвечать на вызов времени, адекватно реагировать на новые запросы жизни, трусливо зарывают головы в песок.
Однако все меняется. Оппозиционные силы, представители нарождающегося бытия, рано или поздно приходят к власти. И их утопия с
неизбежностью эволюционирует в сторону идеологии и со временем
становится всецело таковой. Но гордое одиночество новой идеологии
продолжается недолго. Новая утопия не заставляет себя долго ждать.
Через какое-то время она непременно возникает. Как говорится,
жизнь продолжается.
Все дело, считает Мангейм, в ступенях "реального бытия". "Утопиями обычно называют определенные идеи представители предшествующей стадии развития. И наоборот, "разоблачение" идеологий в
качестве не соответствующих данному бытию, ложных представлений всегда совершается в первую очередь приверженцами находящегося в становлении бытия" [34, с. 121].
Не подвергая сомнению эвристичность мангеймовской трактовки
утопии и идеологии, тем не менее укажем на возможность и правомерность несколько иного их понимания как в содержательном, так и функциональном планах. На наш взгляд, идеология и утопия - образования не равномощные. Поэтому они не могут исторически сменять друг друга. Скорее всего утопия - сторона, аспект, та часть самой идеологии, в которой представлено будущее, обрисованы перспективы грядущей жизни людей. Для социального воодушевления,
возбуждения энтузиазма, вербовки и сплочения своих сторонников
идеология должна рисовать привлекательное, лучшее будущее. Красок действительно не жалеют: "Свобода! Равенство! Братство!", "Кто был ничем, тот станет всем" и т.д. Идеологическое будущее несомненно светлое и в этом смысле утопическое. Мрачные картины будущего (а такие в идеологическом спектре общества тоже встречаются) - это не что иное, как предупреждение об опасностях, которые подстерегают светлую перспективу истории, грозят ее потерей.
В идеологии светлое будущее тесно переплетено со столь же светлым
прошлым. Под ним обычно подразумевают самое значительное и яркое
событие, от которого ведет свою духовную родословную та или иная
идеология. Впрочем здесь значительность и яркость особые. Они создаются самой идеологией. Выпрямления, приглаживания, округления все
плотнее затягивают данное событие по мере исторического удаления от
него, так что со временем его уже и не разглядеть. Идеологический макияж делает свое дело. Особенно часто на "светлое прошлое" ссылаются
на переломных этапах, в смутные, кризисные времена. В нем упорно
ищут чистоту, подлинность, извечную справедливость. Но поскольку
содержательное наполнение этих ценностей на поверку оказывается
лишь отраженной реальностью, спровоцированной самой же идеологией, то на особый успех рассчитывать не приходится.
Сказанное убедительно иллюстрирует пример Великой Октябрьской социалистической революции, бывшей чем-то вроде идеологического тотема в системе советского марксизма-ленинизма. То, что
говорили и писали об этом событии еще совсем недавно, имело мало
общего с действительностью, с реальным историческим материалом.
Была легенда о празднике униженных и оскорбленных, о торжестве
человеческого достоинства ("мы - не рабы, рабы - не мы"), свободы
и справедливости.
Светлое будущее (утопия) и светлое прошлое (миф) - два лика
идеологического Януса. Они смотрят в разные стороны, но видят, пожалуй, одно - исключительно светлые стороны человеческой природы, свою собственную веру в возможность совершенного человеческого общежития.
Однако вернемся к Мангейму, тем более что у него проблема утопии не исчерпывается ее отношением к идеологии. Интересны его
рассуждения о связи между утопией и видением исторического времени. "То, как данная конкретная группа или социальный слой расчленяет историческое время, зависит от их утопии", - полагает
Мангейм [34, с. 126]. Своими трансцендентными целями, чаяниями и
надеждами утопия доводит исторические перспективы нашего бытия
до их завершения или конца, пусть только воображаемого, мысленного. Возникающая благодаря этому смысловая историческая целостность позволяет расчленять и выделять отдельные события, явления,
процессы из их синкретического, исходно-хаосного скопления. Утопия делает непосредственно постигаемой или зримой ту стихийную
форму членения, тот бессознательный ритм, которые субъект привносит в спонтанное созерцание временного потока. "...Так же как в современной психологии, наше восприятие целостного образа
(Gestalt) предшествует восприятию его элементов и, лишь отправляясь от целого, мы, собственно говоря, и постигаем элементы, - происходит это и в истории. Здесь восприятие исторического времени в
качестве расчленяющей события смысловой целостности также
"предшествует" постижению отдельных элементов, и лишь в рамках
этого целого мы по существу и понимаем весь ход исторического развития и определяем наше место в нем" [34, с.127]. Иначе говоря, утопия участвует в формировании идеи истории, в понимании исторического целого. И это еще один довод в пользу введения утопии в круг
метапаттерновой реальности истории.
Как и все в мире, утопия развивается, меняется вместе со временем, которое она, трансцендируя, пытается приподнять, приблизить
к идеалу совершенства. В этом плане перспективна идея Мангейма об
"ослаблении утопической интенсивности" [34, с. 159], о постепенном
нисхождении и приближении утопии к исторической реальности,
конкретному бытию. Начиная с Нового времени, эта тенденция прослеживается особенно ясно. В его пределах наибольшим трансцендирующим зарядом обладала хилиастическая утопия, утопия тысячелетнего царства на земле. Сам по себе хилиазм - религиозно-мистическое учение о тысячелетнем царствовании Христа. Утопией оно
стало тогда, когда направленные на потусторонний мир чаяния "обрели посюстороннее значение, стали восприниматься как реализуемые здесь и теперь и наполнили социальные действия особой яростной силой" [34, с.129]. Исторически это преображение связано с гуситами, Томасом Мюнцером и анабаптистами.
Либеральная, социалистическая, консервативная идеи, по Мангейму, являют собой последовательное нисхождение утопии, приближение
ее к мирским делам и заботам человека. В идеальном случае консервативная утопия демонстрирует свое полное соответствие действительности, существующему общественному порядку. По существу это уже и
не утопия, а переход к идеологии, сама идеология. Ведь последняя есть
не что иное, как "погружение утопического элемента в бытие".
В современном мире утопии обнаруживают все возрастающую зависимость от своих исторических и социальных корней. Их целостные, единые и систематические видения мира трансформируются в
направлении "возможных точек зрения", совместимости с "плодотворным мышлением".
Конкуренция различных утопий приобретает черты межпартийной конкуренции. Утопия, ее возвышающие человека духовные элементы, отмечает Мангейм, вырождается и по линии гипостазирования инстинкта как субстрата человеческой культуры. У Парето,
Фрейда и других вся трансцендентная бытию реальность накрепко
привязывается к неизменной структуре человеческих влечений и инстинктов. В общем мир становится все более прозаичным. "Для того
чтобы существовать в полном согласии с действительностью такого
рода, где совершенно отсутствует какая бы то ни была трансцендентность, будь то в форме утопии или идеологии, требуется, вероятно,
едва ли доступная нашему поколению жестокость или предельная, ни
о чем не подозревающая наивность недавно вступившего в мир поколения", - пишет Мангейм [34, с. 165]. Исчезновение утопии с исторического горизонта человеческого бытия грозит утратой воли к историческому творчеству, ослаблением (если не атрофией) нашей способности видеть и понимать историю в ее целостности.
Какое будущее нас ожидает? Мангейм отказывается пророчествовать, но замечает, что будущее открывается перед нами как возможность, а адекватной формой принятия ее является долженствование.
Это говорит об обязательности утопического долженствования. "Полное
исчезновение утопии, - настаивает Мангейм, - привело бы к изменению всей природы человека и всего развития человечества" [34, с. 169].
Озабоченность Мангейма ростом утилитаризма и прозаичности
истории, уходом из нее утопии, в меньшей степени - идеологии всецело подтверждается историческими тенденциями последних десятилетий, во многом переломными событиями конца XX в. Напряжение
между идеалом и действительностью становится все меньшим. Казалось бы, надо радоваться: жизнь приближается к идеалу, становится
все более похожей на него. Увы, это не так. И главным образом потому, что сам идеал стал открыто сближаться с действительностью,
приземляя и умеряя свои претензии к ней. Крах так называемого реального социализма значительно ускорил этот процесс. Усилились
консервативные настроения. Многих полностью устраивают либерально-демократические ценности, что понятно: в нынешней исторической ситуации они самые комфортные. Демократия, рынок, права
человека - это все для нас (и не только для нас) еще впереди, привлекательная и достаточно высокая цель. Зачем желать большего?
Глобальные проблемы современности, особенно нынешняя экологическая ситуация, также, похоже, не располагают к трансцендированию бытия. Сейчас вопрос стоит о выживаемости человеческого рода,
а выживаемость ориентирована всегда на минимум, а не на максимум, как в трансценденции.
Сторонников "хватать через край" (а он у нас теперь, оказывается, либерально-демократический) становится все меньше. Гарантированность синицы в руках уверенно перевешивает риск и неопределенность журавля в небе. Но, кажется, именно поэтому нам и нужна
утопия: чтобы не иссякал источник социального воображения, смысложизненного конструирования, всегда трансцендентных бытию
идей; чтобы держать должную дистанцию между общественным идеалом и исторической реальностью, постоянно наращивать гуманистический потенциал последней; чтобы был идеал всех идеалов, касающихся переустройства общества на лучших, более светлых и счастливых началах; чтобы никогда человек не уставал тянуться к Человеку;
чтобы жила и по-хорошему злила нас человеческая мечта о всеобщем
счастье, справедливости, совершенстве.
Рассмотрим теперь вопрос о практической реализуемости утопии. Казалось бы, этот вопрос решен раз и
навсегда самой этимологией, происхождением слова
"утопия". Если это "место, которого нет", то о какой
практике может идти речь? Видимо, о практике, которой нет или не должно быть. Но многие думают иначе, например О.Уайльд: "Прогресс есть претворение Утопий в жизнь" [33, с.59]. К прогрессу можно относиться по-разному, но трудно оспаривать, что он в той. или
иной форме был и есть. Значит... умозаключение выстраивается само
собой. И Н.Бердяев считает, что утопии осуществимы, правда, с другим знаком: "... теперь, - читаем мы у него, - стоит другой мучительный вопрос, как избежать окончательного их (утопий - П.Г.)
осуществления" [4, с.70]. А вот еще одна точка зрения: "Уничтожить
утопию может только преображение действительности, из отрицания
которой она вырастает. Говоря парадоксально, преодолением утопии
может быть только ее осуществление. Несостоятельные утопии продолжают существовать независимо от количества "рациональных доводов", которые против них выдвигают" [40, с.200].
Прежде чем продолжить анализ практической судьбы утопии, ее
материализации, уточним, что такое сама практика, какова ее сущность. По широко распространенному мнению, можно сказать даже
традиции, практику определяют как материальную предметно-чувственную деятельность, направленную на реальное преобразование
мира - природного, социального и собственно человеческого. В этой
своей определенности практика противостоит теории и служит критерием ее истинности. Перечисленные качества, особенно критериальная функция, делают практику чем-то в высшей степени естественным и правильным, тем, на что можно опереться, к чему обратиться в нескончаемых поисках надежности, неискаженноеT,
вообще "сути дела". В плане практики "человек может действовать
лишь так, как действует сама природа" (Маркс), т.е. объективно,
строго закономерно, с исключающей всякий произвол необходимостью. Практика, ее результаты эффективны и устойчивы лишь тогда,
когда они законосообразны, соответствуют законам, их объективной
размерности, не зависящей от субъективных желаний и мечтаний.
Скажем, дом, построенный с отступлением от норм и законов сопротивления материалов, непременно разрушится, притом по все тем же
объективным законам, следуя логике деформируемости материалов,
конструкций и элементов сооружения. Законы как законы остаются
одинаковы и в случае созидания, и в случае разрушения. Точно так
же самолет не взлетит, теплоход не поплывет, автомобиль не сдвинется с места, если их двигатели построены с нарушением законов.
Словом, практика расставляет все по своим местам, с ней нельзя
ловчить, хитрить, ее нельзя обмануть, заговорить, увлечь химерами.
Практика служит своеобразной лакмусовой бумажкой жизненной
(объективной) состоятельности всех человеческих замыслов и начинаний. Приговор ее суда окончательный и, как говорится, обжалованию не подлежит, поскольку другой, более высокой, компетентной и
справедливой инстанции (критерия истины) в истории просто нет.
Только пройдя через горнило практики, получив то или иное подтверждение от нее, нечто становится конститутивным элементом истории, утверждается, закрепляется в ней.
Ясно, что через барьер практики, представляемой в том виде, как она
описана выше, утопии не пройти, она непременно будет отсеяна, вытеснена на периферию исторического процесса, где и забудется. Но ведь мы
знаем, что она проходит и практически воплощается. В чем же тогда дело? В какой-то скрытой пробивной силе или живучести утопии? Нет,
все дело в практике, а точнее, в трактовке, понимании практической
деятельности человека, ее достоинств, возможностей, границ. Их
всегда нужно рассматривать вместе - практику и ее понимание.
Изложенное выше понимание практики является во многом упрощенным, хотя и традиционным, широко и охотно принимаемым. Оно
неадекватно тому, что можно было бы назвать ее современным видением, которое является более точным, полным и одновременно неоднозначным. Представим его узловые моменты.
Практика - формирование исторически изменчивое. Она постоянно развивается, ее структуры становятся более динамичными и совершенными, функции - более тонкими и разнообразными. Реализуя свободу, а значит, все новые и новые возможности бытия, практика приобретает все большую гибкость и пластичность. Расширяются
ее горизонты, растут собственные возможности. То, что еще вчера
отторгалось практикой, сегодня становится органически совместимым с ней. Всякий раз, на каждом данном этапе развития практическая деятельность человека оказывается ограниченной, но в тенденции, исторической перспективе она демонстрирует свою безграничность, свою трансцендентность.
Самое спорное в практике - ее критериальная функция, Сама по
себе, в своем материальном предметно-чувственном бытии практика
ничего не доказывает и не показывает. Онтологически она неустранимо
нема. "Говорящим бытием", бытием в качестве критерия истины она
становится только через осознание, осмысление, понимание, Но что является критерием правильного понимания практики, т.е. критерием
критерия? Опять практика? Тогда мы увязнем в дурной бесконечности.
Как выбраться из нее, пока никто не знает. Процессуальность, системность (серийность) и кумулятивность последовательных практических
шагов решают, или снимают, эту проблему лишь частично. Неопределенность и связанная с ней неудовлетворенность остаются, следствием
этого являются разные, а то и прямо противоположные интерпретации
одной и той же практической реальности.
Ясно также и следующее: чтобы быть критерием истины, сама
практика должна быть истинной (онтологически или бытиийно). Но
ведь есть и неистинные формы практики, например неправильно или
даже предвзято поставленный эксперимент. А разве не практической
реализацией какой-то технической лжи (по отношению к человеку
во всяком случае) являются современная экологическая Ситуация и
фетишизированные формы наших рыночных отношений? Лишь ложь
можно доказать неистинными, социально превращенными формами
практики, руководствуясь соответствием мысли действительности.
Онтологически извращенную, ложную практику в литературе называют диспраксисом. Как видим, аналогия с дистопией налицо.
Таким образом, получается, что практически реализуема как истина, так и ложь. Но, видимо, все-таки в разной мере и по масштабам, и по времени, хотя практика любого вида характеризуется и известной устойчивостью, и определенной внутренней состоятельностью. Вспомним наш пример с домом, строительство которого плохо
согласовано с законами сопротивления материалов. Он не выдержит
нагрузки, упадет. Но ведь может упасть не сразу, не вдруг, может падать, как Пизанская башня. Можно пожелать, чтобы любой современный дом так долго жил-падал. Рассмотрим другой пример, более
масштабный, - стагнация. Излишне доказывать, что это неблагополучная, постоянно спотыкающаяся, внутренне измотанная практика.
Но ведь для многих она уже давно является жизнью и, похоже, может продолжаться сколь угодно долго. Можно ли в таком случае считать, что практика - критерий истины, выйти с ее помощью на
столбовую дорогу истории?
Дополним сказанное еще одним принципиальным соображением.
Истинная практика, практика, в которой существование отвечает
сущности, с необходимостью превращается в социальную норму для
других, менее развитых, не столь перспективных и созидательных
форм практики. А в любой социальной норме явно проступает момент долженствования. Придавая ценности статус образца, он, собственно, и конституирует социальную норму. Долженствование, императив образца есть и в практике как социальной норме. То есть налицо аналогия или параллель с утопией: там тоже долженствование,
правда, доведенное до своего предела, абсолютизированное.
Выходит, у практики нет особого, устойчивого иммунитета против
утопии, во всяком случае он часто не срабатывает. Чем дальше и
больше практика развивается, тем более податливой к манипулированию, более предрасположенной к реализации различных, в том
числе и определенно утопических проектов, она становится. Поэтому
не удивительно, что многие исследователи, и не только они, озабочены этой тенденцией практики - нарастанием в ней открытости,
плюрализма и, как следствие, всеядности, неразборчивости относительно смысла и целей, готовности найти место, открыть дорогу всему и вся.
Однако ситуация в целом не столь мрачна и безнадежна, как вывод, к которому мы пришли. И с реализацией утопий не все так просто и однозначно, как некоторым кажется. Вообще ни утопию как метапаттерн светлого будущего, ни утопию как проект идеального общественного устройства воплотить в жизнь никому так и не
удавалось, не удается и, скорее всего, не удастся (по крайней мере в
обозримом будущем). Светла, легка и проста мечта, но не действительность. От светлого будущего или будущего "светлого прошлого"
(например, "золотого века") мы все так же далеки, как и создатели
первых утопий. Есть определенное движение вперед, заметен прогресс, но никто еще не жил и не живет в совершенном обществе.
Впрочем реально существуют "более совершенные" ("более справедливые") общества, хотя и не совсем ясно, чего же в таких обществах
больше: то ли приближения к образцу, то ли удаления от худшего варианта, своего рода антиобразца, от того, как не надо жить. Например, если верить Чаадаеву, то таким историческим антиобразцом была и, видимо, остается Россия.
Нереализуемость утопии, непостижимость ее "идеала идеалов"
следует и из того, что материализация утопии всякий раз оборачивается антиутопией, а точнее дистопией. Ускользаемая часть - утопия, претворяемая в жизнь - дистопия. Как не вспомнить известную
мудрость: благими намерениями вымощена дорога в ад. С утопией
это действительно так. Увлекая нас обещаниями рая на Земле, она в конце концов заводит нас в дебри ада, т.е. в ситуацию, прямо противоположную той, о которой мечтали, которую ожидали, на которую
рассчитывали и уповали. Таким образом, практически реализуется
не утопия, а антиутопия или, говоря другими словами, утопия реализуема настолько, насколько она антиутопия.
В этом плане показательна "государственная" утопия Платона.
Как известно, ее прообразом была Спарта, чьими порядками, укладом жизни, общественными добродетелями вряд ли можно восторгаться. Символично, что пострадал от своей утопии и Платон - его
продали в рабство. (К счастью, из рабства тогда еще выкупали.) Недейственными оказались также утопические проекты ограниченного
масштаба, такие, скажем, как коммунистические опыты Оуэна, фаланги Фурье, колонии икарийцев Кабе, другие коммунистические
движения.
Утопия остается загадкой, одновременно манящей и дразнящей.
Как видим, ей облечься в плоть и кровь не удается. Но и так она реальна в смысле актуальности и универсальной значимости провозглашаемых ею ценностей. Аксеологически утопия присутствует, хотя
эмпирически, предметно-чувственно и отсутствует. Неуспехи и поражения в практическом плане ей нисколько не вредят, наоборот,
ставки даже растут. Практическая неразрешимость притягивает, не
отпускает, толкает на все новые и новые авантюры, на штурм недосягаемых, но таких желаемых, таких сияющих и захватывающих дух
вершин. В этом - весь человек, вся его неугомонная натура. Так что
утописты не переведутся.
Теперь, опираясь на сказанное, попытаемся представить графический образ метапаттерна светлого будущего, определить его фигуру.
Это, несомненно, не прямая линия. Не может быть прямой линия,
образованная наложением логики, вдохновения, мечты, желания,
воображения на далеко не простой рельеф человеческого бытия. Учитывая специфику данной логики, некоторую ее прямизну, можно полагать, что в искомой линии будут фиксироваться только "выпуклости" человеческого бытия, отнюдь не его "углубления" и "впадины".
В результате мы получим узловую линию подъемов, взлетов, вершин
человеческого духа, социального бытия в целом. Так, по нашему
мнению, может выглядеть траектория метапаттерна светлого будущего в истории.
|